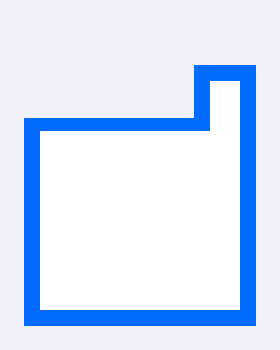О джентрификации не принято говорить так же часто и громко, как, например, о редевелопменте и ревитализации. Среди причин – не только сложное или негативное отношение к процессам значительной части социологов, урбанистов, историков архитектуры, называющих джентрификацию «обменом бедных на богатых» и обвиняющих в уничтожении уникальной городской ткани, сносе целых ансамблей городской застройки и исчезновении памятников архитектуры. Хотя в России ни одного примера джентрификации по мировому «жёсткому» сценарию пока зафиксировано не было, здесь, как и в других странах, протестуют зачастую сами резиденты: им становится слишком дорого жить, они не хотят видеть среди соседей «новых богатых» и т.д.
В первой части серии наших публикаций о московской джентрификации эксперты СтроимПросто вспоминают, как всё начиналось, и размышляют о влиянии процессов на город.
Под джентрификацией (gentrification – англ.) в мировой практике принято понимать позитивное преображение городских районов благодаря эволюционному (но зачастую – и революционному, из-за жёсткой политики чиновников) притоку туда более состоятельных жильцов, и оттоку – более бедных и маргиналов. Но не только – Рут Гласс, зафиксировавшая термин в работе «Лондон: аспекты изменения», где описывалось вытеснение рабочего класса из отдельных районов Лондона средним и состоятельным классами, прогнозировала джентрификацию целых городов, стран и континентов.
Наиболее яркими, громкими и даже скандальными примерами мировой джентрификации в итоге стали процессы в США (особенно в Бостоне, Чикаго, Сиэтле, Портленде, Атланте, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Денвере и пр.). Практически везде американская джентрификация была связана ещё и с кардинальными расовыми изменениями городских сообществ. Однако в итоге, например, нью-йоркский Гарлем, почти весь XX век гордо носивший статус самого известного гетто в мире, в девяностых годах джентрифицировался, и теперь считается не просто благополучным, но даже престижным местом для жизни. В свою очередь, Сохо (одно из первых мест в мире, где начались процессы джентрификации) – некогда заброшенная, запущенная и маргинальная промзона – стал центром богемы, моды, искусства и дизайна.
Среди других знаковых примеров джентрификации – квартал Марэ в Париже, районы Гамбурга и Берлина, Ноттинг-Хилл в Лондоне. В последнем, впрочем, до сих пор, по мнению мировых урбанистов, продолжаются процессы «суперджентрификации». В Стамбуле и многих других городах есть государственные программы джентрификации: чиновники не только расселяют, но и моментально сносят бедные районы.

Показательно, что именно джентрификация «от государства» считается социологами лучшей и наименее болезненной для городской ткани.
В свою очередь, самыми неудачными и даже вредными, например, Матиас Бернт называл те примеры, где «всё порешал рыночек»: Лондон и Нью-Йорк. «В классическом определении джентрификация — это изменение социальных и экономических характеристик неблагополучного или небогатого района в результате миграции в район более обеспеченных жителей, - соглашается Александра Тарханова, ведущий аналитик консалтингового бюро ATLAS. – Да, новые жители “тянут” за собой новые бизнесы и услуги, новую застройку и улучшение облика среды. Но в урбанистке к джентрификации действительно принято относиться как к весьма неоднозначному явлению ещё со времён работ Рут Гласс: в Лондоне шестидесятых средний класс “захватывал” традиционно рабочие кварталы в центре города, вытесняя их коренных обитателей на периферию. Джентрификация может быть вызвана рядом причин, но всегда связана с нехваткой доступного жилья. Процесс часто запускается представителями так называемым креативного класса: их привлекает расположение района и относительно дешевая аренда, при этом они готовы закрывать глаза на негативные стороны, например, обветшалую застройку или более высокий уровень преступности. С одной стороны, джентрификация позитивно влияет локации: старая застройка обновляется и появляется новая, открываются новые бизнесы и создаются рабочие места, городские власти начинают вкладываться в качественную инфраструктуру. Однако неизбежно происходит повышение цен на жилье и услуги, и менее обеспеченные коренные жители вынуждены переезжать. С их отъездом разрушаются сложившиеся социальные и культурные связи, а идентичность и образ района может полностью поменяться. Поэтому всегда важно понимать, что джентрификация влечет за собой не только улучшение качества среды, но и скрытые социальные и экономические риски».
В России пока ни одного жёсткого примера джентрификации по мировому сценарию действительно зафиксировано не было, и чаще всего под ней понимается два варианта.
- Первый – проживание в районе максимально однородных групп – более бедных или более богатых.
- Второй – так называемая «ревитализация плюс», когда процессы связаны с облагораживанием и «перезапуском», например, промышленных зон и других территорий, на фоне чего впоследствии кардинально изменяется и социальный состав.
В истоках мягкого российского сценария – не только сохраняющаяся модель так называемого «советского генплана», предполагающего равномерное расселение без тенденции к геттоизации, но и довольно незначительная доля резидентов с доходами выше среднего. Кроме того, пока в России, по сравнению со странами Европы и особенно США, намного больше собственников, а не арендаторов жилья.

Второй проблемой крупных городов, особенно Москвы и Ленинграда, г-н Кулаков называет коммунальные квартиры: в них даже в 1989 году жили почти 4 млн советских семей. «Такая перенаселенность бывших доходных домов, в которых они преимущественно располагались, тоже не позволяет отнести жилье к территории «среднего класса», - добавляет он. – Но даже в «сталинках», которые стали витриной успехов Советского Союза, большая часть квартир была коммунальной. В итоге первым в СССР массовым, и, безусловно, успешным проектом джентрификации можно назвать строительство целых районов с «хрущёвками». То, что сейчас воспринимается как крайне некомфортное жилье, для жителей бараков было сказочным подарком. Строительство домов по этой массовой технологии продолжалось с 1959 года по 1985 гг., и за это время было возведено 290 млн квадратных метров жилья. Наиболее известным стал московский микрорайон Черемушки, название которого стало нарицательным для новых микрорайонов во всех городах страны. Чтобы оценить масштаб строительства шестьдесят лет назад и сегодня, следует напомнить, что в прошлом году в России было возведено 126,7 млн «квадратов».
Хотя Москва всегда делилась на разнородные районы, деление было довольно атомизированным, напоминают собеседники СтроимПросто. Например, в Кунцево возле метро «Кунцевская» проживала советская партийная элита, а в кварталах вдоль платформы «Сетунь» - уже рабочие.

Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум»:
Несомненно, джентрификация позитивно влияет на мегаполис. Вопреки распространенному заблуждению, данный процесс направлен не на вытеснение небогатых людей за границы привычных локаций, а на повышение привлекательности городских районов без ущерба для местных жителей. В ходе джентрификации строится инновационная коммерческая и социальная инфраструктура, создаются новые рабочие места, следовательно, растет и качество жизни десятков тысяч людей.
Джентрификации ряда районов Москвы способствует постсоветская концепция развития столицы, в соответствии с которой промзоны выносятся за пределы города, а мегаполис превращается в центр деловой и культурной активности. Также на этот процесс влияет повышение платежеспособного спроса, что, в первую очередь, связано с успехами отечественных предпринимателей. Еще одна причина джентрификации – знакомство столичных девелоперов и клиентов с яркими международными проектами в сфере недвижимости, желание создавать подобные привлекательные пространства в Москве.
Развитие Москвы, несмотря на жизнь большую часть двадцатого века по плановой экономике, шло вполне себе в ногу с европейскими традициями урбанизма и сменами общественно-экономического уклада. Сначала бурная урбанизация и индустриализация привели к появлению огромного количества промышленных и логистических кластеров, быстрому притоку населения из деревень в город, указывает Мария Николаева, глава архитектурного бюро MAD Architects. Постепенно Москва разрасталась, а производственные мощности оказывались во внутреннем периметре жилых и деловых районов. «Со временем гигантские промплощадки цехового типа стали избыточными по размерам, несовершенными с точки зрения использования, неуместными в контексте окружения, - перечисляет эксперт. - Кроме того, многие из них, теряя свое значение, негативно влияют на городскую среду, эффективность использования территорий».
«Но, конечно, в Советском Союзе сложно отыскать примеры джентрификации, потому что система экономического уклада была совсем иная: промышленным предприятиям отводилась главная роль в развитии страны, и давались соответствующие преференции по выбору расположения завода, - считает Эвелина Ишметова, директор по консалтингу и развитию KEY CAPITAL. – Заводы в итоге выбирали для себя наиболее выгодное местоположение, а именно срединную часть города, ближе к центральной, что позволяло сотрудникам быстро добираться до своего рабочего места. Поэтому городские власти (в лице исполкома) не спешили двигать промышленность (полностью принадлежащую государству) на фронтиры. Но в итоге в СССР (и даже сейчас) не было такого колоссального социально-экономического разрыва между богатыми и бедными, до последнего времени в Москве отсутствовали и места массового концентрированного проживания этнических групп; сохранялись различия в механизмах городского развития и субъекте (государство или частное лицо) реализации городских проектов. Также важно отметить характер естественности для многих проектов джентрификации в западных странах: то есть девелоперы “заходили” на территорию уже в момент полного исчерпания ее потенциала».
«Но вот если говорить о советской Москве второй половины XX века, то яркий пример джентрификации - Дорогомилово, который из рабочей окраины, благодаря комплексной реконструкции и застройки превратился в престижный район советской номенклатуры, творческой элиты и дипломатического корпуса, - размышляет Денис Ромодин, старший научный сотрудник Музея Москвы, заведующий филиалом «Музей «Садовое кольцо». - Те же процессы, но более хаотичные наблюдались в районе Пресни. Что касается последних тридцати лет, то всё волнообразно и связано с иными факторами, например, возникновением или исчезновением торговых центров или оптовых баз: взять тот же «Черкизон», «Фудсити», «Садовод». Впрочем, надо сказать, что Москва в этом плане очень традиционна. Взять ту же Хитровку или Драчевку. Они также быстро деградировали и также быстро стали тихим и спокойным местом, не оставив никакого следа, кроме недвижимого имущества. Драчевка и вовсе к началу XX века стала застраиваться роскошными доходными домами. Поэтому возникновение или исчезновение какого-то объекта может очень сильно повлиять на изменение района».
Денис Мариненков, генеральный директор ООО «Бимэйстер Инжиниринг», Bimeister:

- Джентрификация — естественный урбанистический процесс, который в большей степени охватывает крупные и быстроразвивающиеся города. Промышленные предприятия из Москвы часто приходят к нам с запросом на формирование цифровых двойников своих объектов при планировании переноса мощностей.
В рамках нашей деятельности мы наблюдаем значительную и яркую трансформацию первоначально промышленных районов города в современную и комфортную городскую инфраструктуру для жизни и работы. Этот процесс становится более доступным и эффективным, в том числе, за счет развития технологий информационного моделирования, которые позволяют реализовать существенный объем работ с помощью цифровых двойников, до выхода на реконструируемые площади. Кроме того, за счет современных цифровых инструментов можно быстрее реализовать процесс трансформации производственных объектов в жилые кварталы.
В итоге одним из самых ярких и интересных примеров джентрификации, стартовавших в СССР, эксперты называют Хамовники и Пресню. Оба района со второй половины XIX века формировались как промышленные и с жильем для рабочих. Но с середины XX века Хамовники превращаются в престижнейший московский район, однако часть крупных предприятий там всё ещё сохранялась и влияла на восприятие, социальную и экологическую обстановку. Уже к началу двадцать первого века практически все местные промзоны стали жилыми, офисными или креативными кварталами.

Схожая ситуация – в других районах ЦАО Москвы: и на уже упомянутой Красной Пресне, и в Басманном. В свою очередь, самым неудачным примером московской джентрификации градозащитники, урбанисты и историки архитектуры называют Остоженку. С одной стороны, она исторически считалась одним из наиболее неблагополучных районов Москвы, с другой - по разным оценкам, здесь исчезло не менее 70 % исторической застройки, а следом начался «бум тёмных окон»: до сих пор, с середины девяностых, в районе есть дома, где постоянно проживают только одна-две семьи. В итоге в районе, по мнению социологов, полностью утрачена городская ткань и среда, зато на Остоженке сохраняются одни из самых высоких цен на недвижимость. «Разработка «проекта комплексной реконструкции кварталов №№ 131–144 района ул. Остоженка с разработкой сводного генплана комплексной застройки и благоустройства» началась еще при Советской власти в 1988 году, - рассказывает Эвелина Ишметова. - Основные предпосылки заключались в несоответствии качества городской среды (низкий уровень благоустройства, деградирование исторической застройки, сложившейся еще в имперскую эпоху и т. д.) статусу центрального городского района с вытекающей необходимостью преобразований. Мотивом, послужившим к началу комплексных работ на территории, послужили публичные возмущения местных жителей, последовавшие после сноса памятника архитектуры в районе Остоженки. В ответ на критику городские власти пообещали разработать комплексный проект развития».
Сейчас схожий процесс – впрочем, ещё более мягкой – джентрификации завершается на Пресне.
«Скажу как практик: если еще несколько лет назад в такие районы как Западное Бирюлево, Гольяново, Бибирево, Мякинино, Богородское с длинной Краснобогатырской улицей, застроенной домами гостиничного типа, порой используемые как «общаги», риелторы опасались выезжать на показы, особенно в вечернее время, то сейчас страха нет», - констатирует Ирина Пешич.
«Джентрификация «по-московски» - это больше о редевелопменте и комплексном развитии территории, - убеждён Олег Гулеватый президент девелоперской компании G3 GROUP. - В истории современного российского девелопмента есть много кейсов, когда на месте промышленных зон были созданы современные жилые районы с функциональными пространствами для работы и отдыха. Со временем такие локации становятся драйверами городской экономики: благодаря туристическому трафику и рабочим местам пополняется местный бюджет, становится лучше экология. Появляются такие проекты, в основном, благодаря программам реорганизации и редевелопмента столичных промзон (или, как его еще называют, «ржавого пояса»). Рост Москвы, как мегаполиса, вслед за расширением транспортной инфраструктуры (МЦД, БКЛ), неизбежен и освоение бывших промышленных территорий – является вполне логичным и закономерным процессом».
Отделить джентрификацию от редевелопмента и ревитализации сегодня важно, как никогда, соглашается Александра Тарханова.
«Первая не всегда напрямую связана со вторым: у джентрификации может быть множество причин, - поясняет она. - Тем не менее, московская джентрификация нередко запускается именно проектами редевелопмента промышленных зон. Один из ранних примеров: реновация бывших территорий Винзавода и Artplay. Проекты включали в себя преимущественно коммерческие площади и культурные проекты. При этом средний уровень цен на жилье вокруг постепенно повышался из-за общего роста привлекательности района».
О джентрификации Москвы в последние двадцать лет и о том, почему «жёсткого мирового» сценария в городе точно не будет, читайте в наших следующих выпусках.
Евгений Иванов